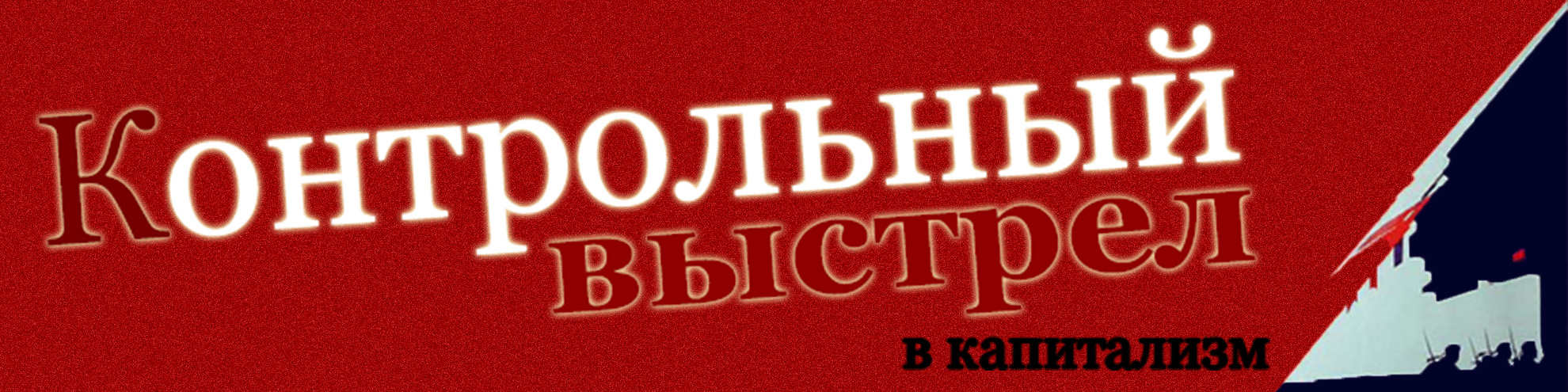Отрывок из статьи
А.В. Луначарского
Теперь проведем некоторую параллель между Чеховым и Чайковским.
Чехов тоже принадлежал к той же самой части русской интеллигенции, то есть он не был достаточно туп и фанатичен, чтобы идти за волной выветрившегося народничества, он не был достаточно остер и мужественен, чтобы найти марксистские пути, он не был так пошл и зауряден, чтобы найти исход в хрюкающем обывательстве и в простом подчинении действительности. Он был настроен жгуче протестантски по отношению к своему кошмарному времени. Но дальше сходство с Чайковским и разница с ним переплетаются. Чайковский, как я уже сказал, был совершенным индивидуалистом, он жизнь мало наблюдал. Его интересовала природа так называемых вечных человеческих эмоций (любовь, надежда и т. д. ) и его собственные субъективные переживания. Чехов не такой. Чехов не является членом какой-нибудь партии, какого-нибудь коллектива, в этом смысле он — индивидуалист, но у него зоркий глаз ко всему человеческому, притом конкретно человеческому. Он великолепно подмечает все реалистические черты окружающего быта. Он дает поразительный анализ крестьянства, мелкого мещанства, интеллигенции всех типов, чиновничества и т. д. ; нет, пожалуй, ни одного класса, ни одной социальной группы, которую Чехов скорбно или юмористически не отразил бы в волшебном зеркале своего искусства.
На первый взгляд может казаться при этом, что он отражает совершенно объективно, что он только Антоша Чехонте с очень бойким карандашом, который зарисовывает без всякой задней мысли все, чему свидетелем бог его поставил12. Однако это отнюдь не так. Чехов чутьем понимает, что силу искусство приобретает особенную, когда оно имеет все внешние аллюры объективности: будто не писатель пишет, а сама жизнь вам себя показывает. Но искусство никогда не есть фотография и тем менее безразличная фотография. Искусство выбирает свой материал, да еще и преображает его. Чехов часто делал вид, что преображает свой материал только в направлении наиболее художественной оформленности, на деле же он неизменно проводил определенные тенденции. Таким образом, Чехов, в сущности говоря, прекрасно понимал, что несет некоторое общественное служение, чувствовал себя через глаза свои, через перо свое крепко связанным со своим временем и в этом смысле был человеком общественным.
Тут, как читатель видит, разница с Чайковским большая. Но дальше следует и сходство. Что же мог Чехов противопоставить этому миру? Чехов не столько боролся с идеей смерти (у него тоже играет известную роль страх смерти, но второстепенную), а с самой жизнью, с ее кошмарностью. В этом сказалась его большая социальность, чем у Чайковского. Но как же с этим ужасом жизни бороться? Во-первых, можно бороться с ним через сублимацию, как Чайковский, то есть через эстетическое его преодоление до преображения этого кошмара в перл искусства. Делает это Чехов или нет? Он это делает. Во-первых, само его стремление (в отличие от других великих скорбников, например Гоголя и Глеба Успенского) всегда дать любой своей пьесе, новелле или мелкому рассказу глубоко продуманную художественную форму есть уже такая эстетическая сублимация. Человек увидел гадость (возьмите, например, рассказ «Крыжовник»), но написал ее так чудесно, что заслоняет для вас ужас сюжета мастерством своего искусства; поверьте, что он заслоняет его и для себя.
Есть одна старинная легенда о великом художнике, который заболел проказой; когда он после первых страшных приступов болезни решился наконец посмотреть на себя в зеркало, то безумно ужаснулся, но затем он взялся за кисть и написал свое собственное лицо, обезображенное проказой, с таким необыкновенным искусством, в таком прекрасном освещении, что его невеста, которую он из-за болезни своей покинул, первым словом при взгляде на этот портрет вскрикнула: «Как это прекрасно!» Нечто подобное делает Чехов. Он берет язвы общества из своей собственной души и необычайно прекрасно их изображает и правдиво, и в правдивости этой гармоничен и красив.
Но это не все. Есть еще другой способ помочь такой сублимации. Этим способом является юмор и его родная сестра лирическая печаль.
В сущности говоря, и юмор и лирическая печаль (они, между прочим, известны и Чайковскому) одно и то же, только о двух разных концах. Что такое юмор? Это изображение чего-нибудь смешного сквозь призму глубокого снисхождения к этому смешному.
Смех вызывается у нас всегда какой-нибудь нелепостью. Причем, если эта нелепость оскорбительная, тяжкая, то она вызывает гнев; чем она менее значительна, тем скорее реагируем мы на нее только смехом. Возьмем пример: если я вам скажу такую фразу: «Сын замахнулся кулаком на свою мать» — и спрошу вас после этого, как мать должна реагировать на подобное явление, вы, наверное, ответите: величайшим негодованием. Но если я поясню, что сыну два года, вы поймете, что мать могла рассмеяться на это самым добрым смехом. Юмор и есть реакция человека, считающего себя мудрым и сильным, на жизненные нелепости, за которыми он не признает серьезного значения. Не правда ли — это есть прекрасное разрешение задачи сублимации. Вы увидели мертвецки пьяного человека, которого, как животное, городовой везет в участок. Это безобразное явление, но вы можете юмористически его описать, то есть, другими словами, отмахнуться от него за разными явно смешными его черточками.
В начале своей деятельности Чехов чрезвычайно много пользовался этим способом, к концу он стал разборчивее употреблять юмор, осмотрительнее, но на смену ему пришла лирическая печаль.
Лирическая печаль есть тоже внутреннее преломление гнева. Человек рассердился и говорит: а впрочем, это скорей смешно. Это есть преломление в юмор. Но вот человек рассердился и видит, что явление, возбудившее его гнев, смешным никак нельзя назвать, тогда он говорит: «Грустно жить на этом свете, господа!»13
Что это значит: грустно жить? Если есть причины для этой грусти, если есть какие-то недочеты в жизни, не дающие человеку жить весело, то ведь писатель именно должен был бы кончить описание этих невзгод призывом к борьбе с ними. Нет, он не зовет к этому. Может быть, он призовет нас покончить с жизнью. Этого тоже нет. Он констатирует, что жить грустно, грусть же есть тихое подавленное состояние, состояние примирения, но неполного, потому что тогда бы получилась душевная ясность, а примирение с внутренне подавленным протестом. Так. подавленный протест легко идет рука в руку с сознанием того, что сам носитель этой грусти (гамлетовщина) выше этой среды, лучше ее. Выявлениями этой грусти являются общие философские размышления о бренности бытия, иногда туманные надежды, что когда-то будет лучше, соображения о том, что в конце концов все пройдет, грустные песни, грустная любовь и тому подобные атрибуты ставящей себя высоко над действительностью, но пассивной личности. Протест приобретает иногда для своего носителя настолько увлекательные формы, что перестает даже быть страданием. Гамлеты часто прямо так и любуются собою. Элементы этого самолюбования великолепно отметили русские писатели на образах русских Гамлетов: Онегина, Печорина, Рудина и, конечно, в особенности на их карикатурах — Грушницких. На такую лирическую печаль и самодрапирование чайльд-гарольдовским плащом Чехов тоже очень часто идет. У Чайковского эта черта преобладает, и музыка есть искусство, до такой степени приспособленное к бесконечно разнообразному высокому и захватывающему излиянию лирической грусти, что ценность Чайковского и заключается именно в прославляемой прелести жизни сквозь дымку грусти или, по музыкальному выражению, в таких формах, в которых бьется ритм и звуковая красота, говорящие о жизни и о ее прелестях.
Если взять Чехова только с этой стороны, как художника формы, как юмориста и как печального лирика, то мы имели бы чрезвычайное сходство с Чайковским. Пришлось бы почти сказать, что Чехов может быть нам ценен тем же, чем и Чайковский, то есть своеобразным пессимистическим преломлением действительности в красивую печаль или печальную красоту.
Но уже отмечено выше, что в то время как Чайковскому (отчасти потому, что он музыкант, но только отчасти: вспомните Мусоргского) свойственно обрабатывать материал эмоциональный, Чехов — весь в быте, весь в реализме, что делает его гораздо более общественным. Стало быть, если б дело обстояло так, как мы только что написали, то и тогда надо было бы сказать: Чехов замечателен тем, что он кошмарную жизнь своего времени отобразил с необыкновенным формальным совершенством, утешал себя от ужаса жизни юмористическим или печально-лирическим отношением к ней, давал нам при этом огромную массу вышеуказанным философским способом обработанного богатого материала.
Однако дело так не обстоит с Чеховым, как сказано выше, именно потому, что такой материал прорывает всякие рамки юмора и грустной печали.
Чехов, конечно, в высокой степени напоминает Гоголя некоторыми чертами своего дарования. Гоголь тоже был необычайно зорок к действительности, он тоже окружен был кошмаром самодержавия и соответственно уродливого быта, но только не после поражения революций, а до возникновения серьезного революционного движения. Он тоже старается справиться с этим кошмаром — юмором и печальной лирикой. Но у него точно так же мертвые души, им изображавшиеся, прорвали все рамки юмора и все рамки печали. Куда же прорвались мертвые души у Гоголя? — В тоску.
Тоска это не то, что грусть. Грусть, как было выше сказано, есть настроение, которым человек примиряется с действительностью. Тоска есть гнетущая боль, с которой почти невозможно жить на свете. Тоска есть такой момент, из которого могут быть только три выхода: или борьба, или гибель, или какой-нибудь внешний факт, который пресек бы причину тоски. Правда, Гоголь пытался найти исцеление от своей тоски в запутанной, опиравшейся на авторитет попа, православно-самодержавной ахинее. Это не единственный случай между русскими писателями. Потом Достоевский, в сущности говоря, повторил его. Но, конечно, ни у Гоголя, ни у Достоевского из всего их православия ничего не вышло. У того и другого это одинаково искусственно, одинаково ненужно. И Белинский, со всем великолепием своих молний испепеливший исход Гоголя из его тоски, мог теми же самыми молниями испепелить и зосимовские соборы Достоевского14.
У Чехова ужас жизни выступает из берегов. Юмористическая улыбка, с которой вы встречаете чудесные рассказы Чехонте или даже самого Чехова, застывает на ваших устах. Жизнь, как медуза, смотрит на вас и заставляет ваше сердце окаменеть. Никакая лирическая печаль не может, в конце концов, преодолеть режущей остроты такого рассказа, как «Овраг»15 и ему подобных, несмотря на замечательную красоту фактуры пьес Чехова и на всяческое стремление окутать их блестящими покрывалами, играющими из юмора в лирическую печаль и обратно, они на действительно чуткого зрителя производят впечатление тоски.
За что любили Чехова его современники? Я думаю, как раз за три указанных выше положительных стороны: за формальное совершенство, за юмор и за печальную лирику, а то, что все эти приемы применялись им к живой жизни, еще усугубляло их ценность. Современники Чехова проливали сладкие слезы вместе с дядей Ваней и Соней под небом из алмазов или умиленно улыбались над 22-мя несчастиями Епиходова, считая, что Чехов стоял во главе их, создавая драмы-будни. Но те из современников Чехова, которые были, в сущности, не современниками его, а предшественниками грядущих десятилетий, уже понимали, что в творчестве Чехова живет тоска.
В самом Чехове эта тоска жила несомненно. Это и создавало совершенно особенную симфонию чеховской натуральной музыки, дающей ей непреходящую прелесть. Чехов, от природы тонкий, как всякий художник, должен был до чрезвычайности утончить себя.
Во-первых, как реалист, он все вновь и вновь вперяет свои зоркие глаза в окружающее и с какой-то страдальческой жадностью наполняет их действительностью. Он до того изощрил свои глаза, свой слух, что равного ему по силе импрессионизма писателя мы не знаем. И, развертывая в себе эту способность бесконечно зоркого наблюдения, он параллельно развернул способность и необычайно четкого выражения. Это делает его крупнейшим русским реалистом-импрессионистом. Стремясь формально преодолеть свой материал, то есть в некоторой степени первоначально победить его, заставив эту ведьму-жизнь служить себе в качестве материала для творчества, Чехов изобрел поразительно совершенные методы художественной конструкции. Правда, он не был способен на романы, и даже самые пьесы его далеки от архитектурности, но этого ему и не нужно было. Как импрессионист и сын века, живущего уже более быстрым темпом, он сознательно заменял романы новеллами и мелкими рассказами, а пьесы писал с таким расчетом, чтобы максимум впечатления произвело не все целое, а огромное богатство не ослабевающей серии отдельных сцен. Во всем этом Чехов опять-таки был непревзойденным мастером.
Во-вторых, стараясь победить жизнь юмором, Чехов развил в себе необычайную способность подмечать даже в самом мрачном смешное. Соединение мрачных и смешных сторон придает огромную глубину чеховским зарисовкам. Я уже сказал, что смех есть в некоторой степени победа над тем, что мы осмеиваем, замена негодования или тяжелой скорби. Чехов дает нам возможность спуститься в ужасающие подземелья жизни, где мы задохнулись бы от негодования или скорби, но он показывает нам эти подвалы при свете факела своего искрящегося юмора и дает нам этим самым возможность не только перенести подобное зрелище, но и почувствовать, что оно преходяще, бегло, что под ним таится что-то лучшее, что человек победит его. Не будучи сатириком (как Щедрин и отчасти Гоголь), Чехов оказывается всегда мягким, правдивым, он бывает неистощимо и захватывающе смешон без всякого перехода в карикатуру. Стремясь овладеть теми элементами тяжкой действительности, которые он не сумел претворить в себе юмором, при помощи последнего своего средства — лирической печали, Чехов невольно заимствует краски у мастерицы этой эмоции — музыки и достигает поистине изумительной музыкальной высоты в «Степи», в «Черном монахе» и т. п. В пьесах и во многих произведениях Чехова разбросаны эти прелестные, музыкальные по содержанию и внешнему выражению страницы.
В-третьих, наконец, приобретая все эти прекрасные свойства, Чехов, влюбленный в жизнь, умерший с бокалом шампанского в руках, который он потребовал у врача после того, как сказал ему: «Сейчас я умру», Чехов, из всех глубин своего таланта старавшийся осилить ужас действительности художественными способами, в конце концов сам сознавал, что из всех пор его произведений хлещет на самом деле тоска, — тоска, которая завывающими голосами, неслышными для мелких людей, но потрясающими действительно чуткие сердца, призывает к борьбе, к мести и к победе.
В известном письме к Суворину Чехов пишет, что были писатели в России, великие тем, что имели своего бога16. Конечно, Чехов тут же разъясняет, что дело не в религии, а в служении чему-то, что писатель признает возвышенным, и сейчас же говорит, что если нет уже этого бога, нет такой идеи, такого явления, которому беззаветно служили бы, то от этого и происходит то, что другой русский и великий литератор Щедрин определял словами: «Писатель пописывает, а читатель почитывает»17.
Самую скверную услугу оказывают Чехову те его критики буржуазного и мелкобуржуазного лагеря, которые хотят превратить его в человека пописывающего и которые хотят его почитывать.
Впрочем, Чехов, в вышеупомянутом письме к Суворину, как будто и сам причисляет себя к этим писателям без бога. Однако прямо он об этом все-таки не говорит. Из письма можно вычитать: как будто совсем как-то нет и как будто есть у меня этот бог, не то нет его. Не то я пишу для какой-то высокой идеи, не то так себе. Не то искусство для меня просто изящное рукоделие, не то это высокое служение. И подобные признания у Чехова можно найти во многих его письмах и рассказах.
Но так относился Чехов сам к себе, мы же должны относиться к нему иначе, поэтому объективно. Нет, он не был писателем пописывающим. И он, как Чайковский, изящная и гармоничная натура которого [страдала], будучи лишена обеих возможностей претворения действительности, стремился примирить ее в художестве, но он был настолько честным реалистом и общественным человеком, что не смог уйти от этой действительности в мистику или философию, а брал ее такой, какой она есть, и с творческим потом на своем челе поэта одолевал эту действительность, чтобы дать себе и другим возможность жить на ее лоне, и не смог одолеть и чувствовал, что она все-таки ломит его, и осознавал эту победу пошлости над собою как тоску, так что эту музыку неизбывной тоски слышит в нем каждый чуткий читатель. Читатель или критик, который распространяется о том, какая великолепная у Чехова форма юмора или лирики, и который на этом останавливается, еще человека в Чехове не узнал. Тот, кто считает Чехова сильным и победителем, тот превращает его в пописывающего, а себя самого в почитывающего. Тот же, кто поймет при всей огромной силе Чехова его коренную слабость и его поражение, тот понимает, какой подвиг взял на себя Чехов в годину безвременья и как честно служил он и обнаружил в конце концов, заявляя каждой строчкой своих произведений, что жизнь безобразна и пошла и что честному человеку перед ней можно только тосковать или объявить ей беспощадную войну. В чеховское время никому не хотелось попросту тосковать, поэтому цеплялись за его положительные качества и объявляли его победителем. Ведь объявить войну действительности тогда было нельзя. Лишь очень немногие видели, что война эта имеет шансы на победу. Сейчас совсем другое. Не только мы видим, что война имеет шансы на победу, но мы уже в большей половине одержали победу. Нам тоска не грозит, в наших глазах эта тоска превращается в призыв. Поэтому Чехов ценен для нас.
Читать полностью http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-1/cem-mozet-byt-a-p-cehov-dla-nas#t4
Наследие А.В. Луначарского
|