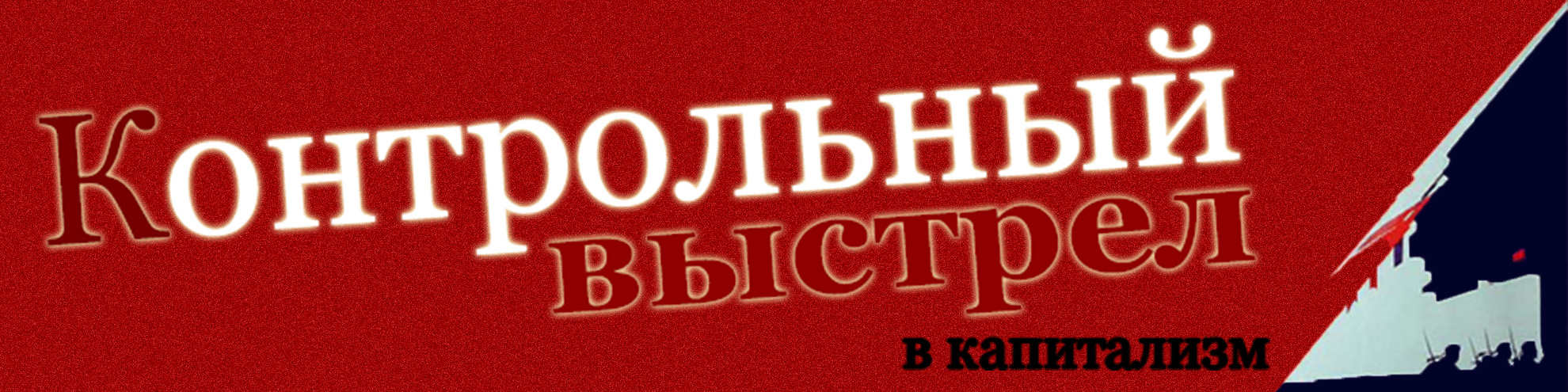Луначарский А. В.
Часть 1
Часть 2
Главным родом греческой лирики первоначально была обрядовая песня — похоронная, свадебная песнь и молитвенные гимны, слагавшиеся в честь различных богов. Затем появляется поэтическая разновидность, которая в нашей народной поэзии большой роли не играет, но у некоторых близких нам северных и восточных народов нашего Союза все же встречается, — это так называемые элегии и ямбы. Элегии первоначально пелись под звуки флейты, слова перемежались с мелодией. Это не был рассказ о каких–нибудь событиях; это были сентенции, нечто вроде пословиц, — мудрость, в виде коротеньких изречений, произносившихся нараспев. Постепенно их перестали петь, потому что вкус, изощряясь, требовал от текста большего содержания, меткости, и больше стали вслушиваться в то, что говорили. Элегия перестала быть песней и стала стихотворной формой для философского раздумья.
Ямбы, которые имели гораздо более живой напев, представляли собой тоже изречения, но только юмористические, которые метили часто в того или другого из присутствовавших. Это было издевательство, хотя и шутливое.
Наиболее ранние греческие поэты–лирики — личности полулегендарные. Имена многих авторов из раннего периода до нас не дошли. Первым вполне определенным лицом в истории греческой лирики является Архилох. Это был разбойник — личность, отбившаяся от общества. Такой человек скорее всего уходит от обрядовых песен, какие пелись в старину, и создает индивидуальную, свою собственную песню. Он нигде не дома, он всюду пришлец, он терпит приключения, аварии, — то счастье ему улыбнется, то, наоборот, судьба его щелкнет, и очень больно, то он богат и пирует, то голоден и в лохмотьях. К обществу, через которое он проходит как блуждающая звезда, он относится как к чему–то чуждому; он с любопытством взирает на новые и новые нравы; часто между ним и обществом возникают настолько острые отношения, что он с проклятием и издевательством уходит из общества.
Именно таким человеком был Архилох.
Очевидно, уже в VII веке быт начинает разлагаться. Архилох сам принадлежал к высшему классу, был поэтому более образованным, чем большинство греков. Но он как–то выпал из своего класса, стал морским разбойником, участвовал в походах, слонялся по всему тогдашнему греческому миру.
Рассказывают, что он был страстно влюблен в девушку Необулу. И даже это показывает, что в нем сильна была индивидуальность. Обычно тогда невеста не искала жениха, жених не искал невесты. Индивидуальная любовь играла еще чрезвычайно ничтожную роль в стародавнем быту. Здесь же мы впервые встречаемся с явлением ярко выраженной индивидуальной любви. Архилох полюбил Необулу, Необула обещала ему свою руку, но отец выдал ее за богатого. Тогда Архилох, по преданию, стал преследовать ее отца и всю семью такими злыми насмешками, изобразил их в таком карикатурном свете, что все дочери семьи, и в том числе Необула, утопились со стыда. До нас дошло неизвестно кем написанное стихотворение на могильной плите: «Здесь лежат пять дочерей старца, которых загнали на дно морское ядовитые стрелы Архилоха. Берегись раздразнить ос, которые спят в его могиле».9
Архилох говорит, что в своих скитаниях видел чудеса природы и богатства народов, сам испытал очень много горя, но в конце концов пришел к выводу, что жить — хорошо. Во всем у него сказывается несколько беспринципная натура авантюриста. Таким образом, в самом начале индивидуальной поэзии стоит личность, выпавшая из общества, отщепенец, бродяга, перекати–поле. Архилох писал очень много; о нем говорят, что он создал почти все напевности, все лады, в которых развивалась потом греческая поэзия; но все это погибло; для нас сохранились исключительно его ямбы.
Приблизительно в то же самое время, когда Архилох (и, вероятно, рядом с ним много таких Архилохов) стал осознавать свою личную любовь, личную ненависть, начали выдвигаться поэты–вожди, которые тоже не блюли старину, не были простыми жрецами, выполнявшими то, что отцы и деды завещали, а стремились создать новые формы жизни. Их появление возможно было только при условии социальных потрясений.
Мы видим появление таких людей и со стороны аристократии и со стороны демократии. Например, поэт Тиртей — чисто военный поэт, который писал в Спарте. Тогдашней Спарте угрожала опасность со стороны покоренных народностей, вокруг было брожение, поколебавшее устои быта; надо было сопротивляться этому натиску. Аристократический уклад в то время, в VI веке, был еще чрезвычайно силен. Интересно, что легенда гласит, будто афиняне прислали Спарте Тиртея вместо военной помощи. Тиртей оказался тем военным музыкантом, который сумел сложить художественную идеологию, спаявшую воедино боевую солидарность и силу. Военная музыка во всех армиях принята и нужна не потому, что армия хотела бы музицировать, а потому, что музыка является элементом возбуждающим и организующим, сплачивающим. И если вы познакомитесь ближе с Тиртеевыми гимнами, то увидите, что этот поэт был кладезем военной доблести и даже учителем строя и тактики. Таким образом, социальный вождь Тиртей является типом поэта и человека, прямо противоположным тому типу, воплощение которого мы видим в Архилохе. Но все же то, что Тиртей прославился и сделался как бы поэтом–организатором дружин, свидетельствует о том, что уже появляется индивидуальность более развитая, чем в прежние времена. Раньше военные песни тоже существовали, но они создавались постоянно, испокон века и безлично; а тут, чтобы оказать сопротивление внешнему врагу, нужно было проявление уже более яркого, более индивидуального творчества.
Еще замечательнее поэты, которые выделены были демократией. Например, Солон, великий законодатель, фигура вполне историческая.
Солон явился в то время, когда между демократией и аристократией происходила ожесточенная борьба. Вожди демократии пользовались натиском на аристократию общественных низов, недовольных поборами, стеснительными формами налогов и в особенности всякого рода оброками и кабальными отношениями. Вожди демократии опирались на портовую массу — на матросов, грузчиков, вольных разорившихся граждан, ремесленников и городской плебс — и оказывали сопротивление аристократическому правлению. Это было чрезвычайно опасно для аристократии, потому что низший класс начинал все настойчивее предъявлять свои требования.
В это время Солон и создал первую конституцию. Это как бы невинная бумажка; но она есть договор, за которым стоят мечи и стрелы: если нарушишь, то наткнешься на сопротивление. Надо было придумать такую среднюю линию, которая прекратила бы огромную растрату сил на внутреннюю борьбу и дала бы возможность поладить на чем–нибудь, удовлетворив по возможности каждый класс.
Солон разбивает граждан на определенное количество слоев и дает каждому из них соответственные права. Он поднимает свободное гражданство над остальным населением, освобождает бедных от долгов, объявляя в известный срок невыплаченные долги аннулированными.
До некоторой степени это законодательство является типичным. В нем много положений, напоминающих Моисеево законодательство,10 которое появилось тогда, когда еврейское племя не было достаточно сплочено против внешнего врага, когда еврейство быстро расслаивалось на низшие и высшие классы. И мы можем найти подобные же положения всюду в те моменты, когда борьба классов идет путем взрывов и для сохранения национального целого требуется создать компромисс. Такой компромисс и был чрезвычайно искусно создан Солоном.
Но Солон не только действовал на граждан тем, что издавал законы и говорил прекрасные речи. Он создавал элегии, писал поэмы. На граждан надо было воздействовать педагогически, и он пользовался для этого очень сильным агитационным средством — поэзией.
Рассказывают о Солоне, будто он притворился раз сумасшедшим, потому что боялся, что власти его арестуют, если он сделает населению известное политическое предложение. Он притворился сумасшедшим и стал на площадях выкрикивать стихи,11 — а его, как юродивого, не тащили за это на расправу. Что же поделаешь с человеком, который одержим каким–то демоном! Это напоминает пророков израилевых, которые ходили в растерзанных одеждах и в эпилептических припадка орали свои поучения от имени господа. Пророка боялись тронуть, потому что это человек божий, — «убогий». (Припомните «блаженных», говоривших правду Иоанну Грозному.) Поэты вообще считались необыкновенными людьми, к ним относились как к чему–то священному: если человек говорит стихами, это значит, что к нему прикоснулся какой–то дух божества. И еще позднее римское слово, которое выражает название поэта — vates, означало также «пророк», глашатай истины.
Солон — поэт–публицист. Так, в одной из поэм он говорит: «Темная туча порождает яростный снег и град, из блестящей молнии родится гром. Государство гибнет от великих людей; неразумный народ отдает себя в рабство монарху; сильно возвысившегося нелегко ниспровергнуть впоследствии; необходимо подумать об этом вовремя».12
Это учение о том, что нужно себя ставить в определенные рамки. Это демократическая золотая середина — желай малого, блюди себя, бойся зависти богов и судьбы. И эти положения — главное, что потом во всей учительной поэзии проводит греческая культура.
Замечательно интересным поэтом был и Феогнид из Мегары, аристократ. Он попал, однако, в другое положение, чем Тиртей. Тиртей был полководец и в художественной форме создал военную песню, а Феогнид брызжет злобной слюной против демократии, уже победившей его класс. Он с ужасом говорит о зловонной черни, которая со всех сторон наползла и мешает жить. Он с ужасом говорит об этих моряках, кожевниках, которые прут к власти и демократическим плечом оттирают аристократов. Он всю жизнь с оружием в руках стоял против демократии. Он убегал на чужбину, потом возвращался на родину. Страшными насмешками обрушивался он на народ и старался возвеличить аристократию, — какая–де она благородная, мужественная, щедрая. И тем не менее в его поэзии звучат упадничество и озлобление — даже по отношению к богам. Он чувствует себя побежденным. Быт разложился, и потому возникает личная лирика: Феогнид не тот аристократ, который мог петь стародавние песни, — прежде ведь не бывало того, чтобы у тебя все отняли и ты был бы побежден в борьбе этим косолапым мужиком! Это уже новая форма сознания.
В формальном отношении еще замечательнее Алкеи из Лесбоса. Он тоже боролся против демократии в его родном городе Митиленах, где власть досталась Питтаку, тирану. Этот Питтак попал даже в число семи мудрецов Греции, как и Солон. Он был очень умный и умеренный правитель, умевший приблизить к себе выдающихся, талантливых аристократов. Питтак приблизил к себе Алкея и превратил его в своего придворного поэта. Алкей вначале писал зажигательные стихотворения и памфлеты, направленные против демократии. Но когда ему дали возможность пить вино из золотой чаши и целовать красивых женщин при дворе тирана, он стал просто прославлять прелести роскошной жизни. Поэзия его чрезвычайно мелодичная, сладостная.
Очень интересна та роль, которую играл в греческой культуре VI века остров Лесбос. Это — маленький остров, близкий к азиатскому берегу, с необыкновенно благоприятным климатом и исключительным плодородием. Там производилось великолепное вино, там росли прекрасные розы, там было много отличного мрамора. На этом острове развилась роскошная жизнь. Много богатых людей и мелких помещиков, владевших только небольшими клочками земли, были уже в состоянии вести роскошную жизнь. Развернулись самые утонченные формы быта и любовь к изящному. То, что называется изящным вкусом, элегантностью, создается большим богатством в соединении с чувством меры. Если будет сколько угодно чувства меры, но не будет богатства, — откуда же взяться элегантности? Если будет очень много богатства, но отсутствует вкус, — будет нелепая роскошь, вроде той, какую можно видеть у какого–нибудь купца, который, имея много денег и не зная, куда их деть, золотом облепляет свою кровать. А на Лесбосе прекрасно сочетались утонченнейший вкус и богатство. Отсюда развитие чрезвычайно изящной жизни, отсюда и особое отношение к женщине. Там стремились к наслаждению, но не простому, а тонкому, культивировали женщину и предъявляли к ней большие требования: она должна была великолепно танцевать, петь, с отменным вкусом одеваться, должна была уметь вести изящную беседу. Поэтому на Лесбосе жили необычайно привлекательные женщины, которых чтила вся Греция. Лесбиянка считалась первой женщиной в Греции. Существовали целые школы, в которых выдающиеся лесбиянки преподавали поэзию, танцы, умение одеваться, причесываться, умение себя вести, такие — пансионы, из которых должны были выходить полубожественные женщины.
Во главе одного из таких пансионов стояла знаменитая Сафо. Это была одна из самых замечательных женщин, каких знал тогдашний мир. До тех пор знали только гетер или женщин, которые сидели в своих специальных помещениях и рожали детей. Сафо пользовалась почти божескими почестями. Она вызывала преклонение перед собой и своей поэзией, из которой кое–что дошло и до нас. Недавно открыты новые произведения Сафо.13 В ее поэзии сказывается большая нежность, искренность и чувствуется чрезвычайно высокое отношение к вопросам брака, к вопросам любви, много утонченной страсти и необыкновенной музыкальности. Поэт Алкей, который знал и любил Сафо, называет ее богиней.
П. С. Коган говорит, что эта фигура знаменует грядущее освобождение женщины.14 Это не мешало тому, что Сафо была аристократка, что вся ее утонченная поэзия была распространена среди богачей, и когда дошли демократические потрясения до Лесбоса, ей пришлось удрать оттуда, вроде того как это сделала в наши дни, правда, далеко не так чтимая поэтесса Зинаида Гиппиус.
Теперь два слова о том поэте, который считается величайшим лирическим поэтом Греции, — о Пиндаре.
У греков большую роль играло соревнование; припомните Олимпийские и всякие другие игры. Соревнование было установлено во всех областях физической и моральной культуры. Даже крестьянин Гесиод в своей поэме упоминает об этом.15 Это была не распря, а метод — выдвинув наилучших, заставить других равняться по ним. Это отразилось и в поэзии. Создался особый род поэм — эпиникии, то есть победные песни.
Победителю в кулачном бою, в быстроте бега ставили статую, — обыкновенно мало на него похожую, так как при этом не очень стремились к портрету, но дающую красивую фигуру, под которой делалась та или другая подпись. Поэт слагал в его честь стихи.
Если бы я имел время разобрать творчество Пиндара, вы увидели бы, как греки умели педагогически относиться к поэзии. Он говорит победителю: «я спою в твою честь», затем, в качестве высокого примера, приводит разные мудрые изречения, мифы, и лишь потом возвращается к тому, в честь кого пел. Своею задачей он считает научить мудрости всю Грецию. И в каждой оде Пиндара можно не только открыть эти педагогические тенденции, высказанные с большой красотой, но и указать, почему именно в тогдашней Греции они были нужны. Если вы спросите, к какой из борющихся сторон можно его отнести, то я могу сказать, что Пиндар старается защищать свободное среднее гражданство. Но так же, как Солон, он был выразителем национального единства. Кому был на пользу национализм? Конечно, больше всего выгоды получали от него господствующие классы. Но аристократы и богатая верхушка общества были в такой мере озабочены победой над внешним врагом, что готовы были пойти и на известные уступки и признать некоторые права обездоленного народа во имя прочности целого. На этой почве защиты общества в целом и выросла прекрасная поэзия Пиндара.
Теперь постараемся охарактеризовать греческую драму. С нею следует познакомиться с особым вниманием. Но я могу здесь коснуться этого предмета совершенно общо, указать место трагического и комического театра в искусстве и затем проследить линию эволюции драмы, которая определена классовой борьбой, то есть дать некоторый суммарный марксистский анализ этого явления.
Прежде всего здесь бросается в глаза, что театр для Греции есть социальное, даже государственное установление. Это — громадный амфитеатр под открытым небом; в него воспрещается входить рабу, но каждый гражданин не только имеет право, но обязан ходить туда, а так как за билет платили, то государство раздавало деньги на билеты каждому бедному, но свободному гражданину. В театре тоже было введено соревнование. Каждой конкурирующей труппой ставились три драмы и четвертая — комическая. Это такие три пьесы, из которых каждая сейчас заняла бы целый вечер. Обыкновенно конкурировали три драматических труппы, и публика выносила решение, какая из них победила. Спектакль победителя становился государственной собственностью, государство его покупало, и пьеса, признанная лучшей, ставилась в течение целого года, до следующего праздника Диониса.
Ставились драмы на казенный счет. На постановку надо было затратить деньги, надо было сшить костюмы; правда, декораций не надо было делать. Государство чрезвычайно было заинтересовано, чтобы пьесы были хорошо поставлены, чтобы все было на месте. Почему? Может быть, потому, что это были ритуальные спектакли?
Действительно, вначале драма была как бы богослужением в честь Диониса, и самое название «трагедия» — песня козлов (tragos — козел), возникло из того, что крестьяне во время праздника Диониса, изображая сатиров, одевались в шкуры козлов и плясали вокруг помоста, на котором стоял человек, изображавший Диониса. Он говорил: вот я, бог Дионис, был там–то и попал в руки врагов, меня мучили, издевались надо мною, убили, похоронили и т. д., — и все его оплакивали. Потом актер рассказывал, как он в конце концов воскрес, и сатиры ликовали. Это действо постепенно распалось на ряд происшествий печальных и веселых.
С течением времени трагедия изменялась. В ней уже не изображались непременно страдания бога Диониса; его место занимал какой–нибудь герой, олицетворявший собою те же идеи, которые перестали уже быть божественными. Можно было сказать: наш великий бог затмевается, умирает и воскресает для счастья всех, и так же страдал, а затем победил Прометей, Эдип или Орест. Так из богослужебной мистерии, чем дальше, тем больше, человек вытеснял богов.
Говорить, что трагедия осталась жертвенным действием, как уверяли Ф. Зелинский и Вяч. Иванов,16 — значит впадать в заблуждение. Ее нельзя считать богослужением, это уже театр.
Почему государство все же интересовалось театром? Потому что театр имел гражданское воспитательное действие. Один из величайших умов античного мира, Аристотель, сказал, что театр должен был вызывать страх и сострадание 17 и благодаря этому делать человека более бесстрашным, менее слезливым, закалять его. В античных трагедиях времен расцвета проводилась борьба с тиранией и с индивидуалистическим началом, проводилась идея: держись общественного начала, не старайся выйти из этих границ, не мудрствуй. Когда Солона спросили, кто самый счастливый человек, он ответил: один гражданин, который жил, как все, и умер, как все, никаких событий в его жизни не было, был он человек зажиточный, народил детей и умер в старости.18 Эта «золотая середина» проповедовалась во имя прочности нации. Что такая идея лежала в основе трагедии — можно было бы доказать на массе примеров. Но она встречается в самых разнообразных сочетаниях. Трагедия развилась в более позднюю эпоху, чем эпос; прочность аристократическо–республиканского строя была в это время гораздо меньшей.
Великий драматург Эсхил был аристократ. В своих драмах он борется против бунта личности. Но для того, чтобы с полной силой опровергнуть демократические тенденции и связанный с ними индивидуалистический бунт, он и самый бунт изображает с большой силой. И получается такая же странная вещь, как у Достоевского, — бунт Ивана Карамазова в его романе доходит до нашего сердца и является величайшим памятником протеста, а смиренное разрешение конфликта, которое дает Алеша, оставляет нас холодными. По–видимому, то же произошло с трагедией Эсхила «Прометей». Это характерно сказалось в ее исторической судьбе.
В трагедии «Прометей» Эсхил изобразил бунт Прометея против Зевса из самых благородных побуждений, — чтобы достать людям огонь, основу всякого технического прогресса. За то, что Прометей осмелился защищать людей против бога, он был прикован к скале в горах Кавказа. Но он не сдается. Получается картина величайшего протеста благородного революционера.
Правда, Эсхил в дальнейших частях трагедии приводил Прометея к примирению с Зевсом: Прометей понял высшую благость богов, смягчился и Зевс со своей стороны. Все кончается компромиссом. Но именно это продолжение трагедии до нас не дошло.
Мы имеем из произведений Эсхила еще «Орестею», трилогию, которая целиком дошла до нас. Жена убивает мужа, за это ее убивает сын. Сын говорит: «Как же мне можно было не убить свою мать, мужеубийцу? разве я не сын своего отца?» И он прав. Но сознание патриархальное еще не господствует абсолютно; еще не умерло старое представление, когда родство считалось по матери и за пролитие материнской крови следовала еще большая кара, чем за отцеубийство. Поэтому старые богини, фурии, которые охраняют правду исконную, вековечную, восстают против Ореста и терзают его. И человек не знает, — прав он или неправ, хорошо ли сделал или нехорошо?
Эсхил разрешает вопрос так. Он заставляет Ореста явиться в Афины на человеческий суд избранных людей: там будет суд правый. Но мудрый ареопаг взвешивает все и не может прийти к решению: половина за, половина против. Тогда сама богиня мудрости Афина высказывается за помилование Ореста. Если суд человеческий колеблется, то человека нужно помиловать. Но как характерно, что от собственной совести, от собственного произвола и от безусловного подчинения стародавнему обычаю переходят к тому, чтобы идти к суду старшин, к суду организованного общественного мнения, — это оно решает в последнем счете, и сами боги участвуют в таком суде и склоняют его к окончательной мудрости. Все это чисто гражданские мотивы, несмотря на остатки мифического начала.
Перейдем от Эсхила к блистательному Софоклу.
Софокл — одна из самых великих личностей, какие когда–либо жили на земном шаре. Этот человек начал свою поэтическую деятельность почти мальчиком, дожил до девяноста двух лет, до последних своих дней писал драмы, создал сто шестьдесят шедевров и почти никогда никем не был побежден в соревновании. (Из этой огромной поэтической сокровищницы до нас дошло семь драм и несколько отрывков.) Мало того что Софокл был драматургом, он был замечательным актером, танцором, великолепным музыкантом, хорошим полководцем, а одно время и министром финансов своей родины. Это одна из тех счастливых, разнородно одаренных личностей, к которым относятся Леонардо да Винчи, Гёте. Подобно им, он был и физически красивым человеком. Но, пожалуй, судьба Софокла еще блистательней судьбы этих гениальных людей.
В то время шла гражданская война.19 Он стоял посередине, был человеком компромисса. Но компромисс, даже идущий очень далеко, вовсе не всегда лишен положительного социального значения. Поскольку высший класс сумел выставить такого человека компромисса, объединения, гармонии, постольку он доказал чрезвычайную дальновидность, широту своих политических горизонтов.
Надо помнить, что Софокл имел дело с обществом гораздо более разветвленным, чем в эпоху Эсхила, с гораздо большим количеством противоречий, которые трудно разрешить даже величайшему государственному человеку.
Его пьеса «Антигона» построена таким образом. Девушка Антигона хочет похоронить своего брата, политического преступника, которого власть запретила хоронить. Прав ли царь Креонт, который предписывает не хоронить политического изменника? Прав. А права ли Антигона, которая говорит: я рождена не для вражды, а для любви; сестра должна любить своего брата и во имя любви должна оказать ему погребальные почести, которые для грека означают спасение души? Тоже права. Но Креонт неправ, издавая закон, идущий против человеческих обычаев. И Антигона, осмеливаясь идти против установленного Креонтом закона, тоже неправа. Антигона погибает: ее казнит Креонт. Зато и сам Креонт морально гибнет. Значит, тут не торжествует ни один из принципов. И во всех других трагедиях Софокла мы видим подобные же тонкие, остроумно высказанные мысли. Как будто бы драматург говорит: вот вам тезисы сторон, и я покажу вам, что они потерпят крушение, потому что они узки, потому что они односторонни, потому что они не могут примирить права всего общества и граждан, его составляющих.
Если Эсхил хотел удержать свою страну от развала, хотя бы ценою умеренного компромисса между властью и народом, держась, однако, ближе к власти, то Софокл был целиком человеком середины.
Еврипид, третий и более поздний трагик, был человеком растерзанной души. К его времени все распалось. Софисты разлагали старую религию, старую мораль, старое государство. Они были представителями того среднего слоя демократии, который не устремлялся к кормилу государства, а требовали от общественного устройства только того, чтобы оно удобно было для накопления индивидуального богатства. Люди из этого слоя стремились только устроить свои дела и говорили: а ну его, государство! И афинская государственность разменивалась тогда на индивидуализм.
Софисты–философы, — скажем, Протагор, — говорили: человек есть мера всех вещей.20 Это были настоящие нигилисты, которые разрушали всякую истину. Они говорили, что людям трудно даже сговориться друг с другом, — ведь у каждого своя истина. Здесь была сильнейшая критика старых устоев, в этом смысле учение софистов было революционным и прогрессивным. Но, в силу особых исторических условий, останавливаться на которых я не могу, реальных путей для общественного прогресса у греческого общества того периода — не было. Этот факт нашел себе отражение в том, что проповедь софистов играла роль преимущественно разлагающего фактора. Такую подвижную мудрость можно было легко приспособить к политической демагогии, к судоговорению, можно было красноречием ослепить судей и выиграть процесс. И афиняне все время проводили в такого рода спорах. Народное собрание, суды превратились в дискуссионные клубы. Нужно было непрестанно искать и отвергать какую–то истину. Враг софистов Сократ сам ходил по базару с непокрытой головою и тоже искал истину в дискуссии. Все дискутируют кругом.
И Еврипид дискутировал, и его герои дискутировали. Он редко приводит к какому–то примиряющему концу. Нет такого примиряющего конца, — трагедия изображает просто конфликт.
Например, страшна его драма «Медея». Ясон женился на Медее, которая полюбила его и спасла его в тяжелое для него время. Затем, когда они приехали на родину, он хочет жениться на царской дочери. Он приходит к Медее и говорит: «Я люблю тебя и детей и хочу, чтобы вам было хорошо; а для того, чтобы вам было хорошо, я должен быть богатым и могущественным. Если я женюсь на дочери царя, я смогу вас сделать счастливыми — поэтому я на ней и женюсь». Она отвечает: «Хорошо, я довольна, и я твоей невесте пошлю в подарок диадему и одежду». Вещи эти отравлены, невеста надевает их и в страшных муках умирает. Потом Медея убивает всех детей Ясона. При этом она рассуждает так: «Это мои дети, и я их очень люблю; мне хочется, чтобы они жили. Убить их — для меня огромное несчастье. Но ведь это дети Ясона, который враг мне, и поэтому я должна их убить». Она приводит аргументы за то, чтобы их не убивать, и аргументы за то, чтобы убить, — и убивает.
Конечно, никакого поучения для общества здесь быть не может. Ужасные, преступные люди, прикрывающие свои низкие свойства, свой эгоизм высокими словами!
В этом есть нечто глубоко отвратительное. Общественность существует, поэтому надо оправдать себя перед ней воинствующей речью. Но я знаю, кто вы внутри, говорит Еврипид: вы — дикие кошки, готовые каждую минуту друг друга растерзать. И отсюда его глубокий пессимизм, благодаря которому он великолепно изображает этот хаос человеческой борьбы, когда люди ссорятся, грызутся и не находят выхода.
К Еврипиду близок и величайший комедиограф Аристофан.
Аристофан был сторонником аристократии. Он прекрасно понимал, что все эти философы–спорщики разлагают государство и что надо бороться против них. Чем? Смехом. Он решил, что это самое великолепное оружие, каким может вооружиться аристократия для того, чтобы ввести в рамки подпорченную, подгнившую мещанскую демократию.
Возьмем его пьесу «Облака». Старик разорился и не знает, как расплатиться с долгами. Он слыхал, что у софистов можно научиться отболтаться от долгов. Он идет к лучшему из них — к Сократу, а тот наблюдает облака и говорит: ни в каких богов не верю, кроме облаков; остальное, говорит, все глупости. Старику кажется, что это дурно, он возражает. Он не может понять мудреца. Сократ его прогоняет. Тогда он посылает к софисту сына. Тот оказался понятливее и впоследствии доказал, что его отец не только не должен никому, а даже заимодавец его чуть ли не оказался ему должным. Но когда сын вернулся к отцу, он выгнал отца из дома и объявил себя хозяином. Старик стал ему возражать, но тот ему доказал по всем правилам софистики свое право поступить так.
Это направлено было против Сократа, который не был софистом и являлся не только человеком высокой нравственности, но и защитником старины. Даже это не остановило Аристофана. Ведь Сократ бродит по площадям и, вместо того, чтобы слепо верить старым традициям, все щупает, все проверяет, прочно ли? Значит, и он в своем роде софист — разрушитель основ.
Другая комедия Аристофана — «Всадники» — направлена против Клеона. Клеон занимал важную общественную должность. Это был богатый купец, умевший ладить с народом, довольно смышленый и не бесчестный. Но что такое он для Аристофана? Кожевник, вышедший из грязи. Его орудие — деньги. А народ ему рукоплещет! Такие люди разложили государство. И Аристофан в ряде комических конфликтов показывает, как безмозглый народ, жадный и невежественный, идет за демагогом, подкупившим его лестью.
Третья комедия — «Лягушки». Здесь изображается, как бог Вакх вызвал из преисподней славного Софокла и Эсхила и устроил состязание между ними и Еврипидом.21 Пользуясь этим приемом, Аристофан перечисляет ошибки его трагедий, которые, по его мнению, знаменуют великий упадок театра, и всячески издевается над ним под хор лягушек.
Сам Аристофан был, однако, тоже сыном своего века. Он и самых именитых своих сограждан не щадил, и богов изображал в смешном виде.
В это время в Греции возникли губительные войны. Еврипид создал глубоко антимилитаристическую трагедию «Тропики», где он описывает все ужасы войны и победы. Аристофан написал ряд блестящих антимилитаристических комедий. Часто носителями протеста являются у него женщины («Лисистрата»). Их сход решает объявить своеобразную стачку против мужчин и захватить в свои руки государственные сокровища. Мужчины оказываются в совершенно угнетенном положении и должны сдаться. Женщины в комедии не только проповедуют мир, но и своеобразный, реакционный социализм. Вы услышите из уст Лисистраты замечательные вещи: «Вы вечно ссоритесь, — говорит она мужчинам, — приобретаете, вместо того чтобы жить человеческой жизнью», «давайте все вместе вести одно хозяйство». Женщина еще являлась хранительницей старой большой семьи, старого племенного домашнего очага, старых начал, женщина еще вспоминает о родовом быте. А мужчины развернулись к этому времени вот в этих враждующих между собою купцов–собственников, жадных людей, для которых во всем мире нет ничего выше наживы. Так что Аристофан, — правда, исходя из совсем другого, чем мы, — приходит к выводам, которые симпатичны и нам.
Его комедии в высшей мере общественны. Социальная сатира достигает в его комедиях огромной глубины и смелости. Это комедия большого стиля. Его сатира — всегда гигантский плакат, безумный, нелепый: то у него птицы создают город и перехватывают все жертвы, которые возносятся богам, и этим ставят богов в затруднительное положение — на сцене птичий город, хоры птиц или лягушек, облака, фантастические существа выходят на сцену наряду с живыми гражданами, и при их помощи он издевается над врагами. Все это как нельзя более далеко от позднейшей бытовой греческой комедии. И люди, когда они хохотали в этом громадном, на 10 000 человек, театре чад аристофановскими пьесами, не просто забавлялись, — они смеялись с трибуном, который голосами всех актеров и всей великолепной постановкой звал смеяться над тем, что считал нужным осмеять.
То, что Аристофан не всегда попадал в цель, и то, что он был реакционным писателем, не должно нас смущать, потому что целью его насмешек была социально разлагающаяся масса индивидуалистов, купцов разного типа, которые разрушали общество, сохранившее еще остатки родовых отношений. Это были действительно те люди, торжество коих привело к крушению Греции.
Отживающая аристократия в своем протесте против наступающего эгоистического торгашеского индивидуализма часто поднимается до большой художественности и образной высоты. Таковы, между прочим, и социальные корни творчества и учения Л. Толстого, критика капитализма у которого отражала поэтому и протест крестьянства против бесчеловечной капиталистической эксплуатации.
Когда индивидуалисты–купцы восторжествовали окончательно, великий смех Аристофана стал уже общественно неприемлемым. На сцену вышел Менандр. В его комедиях обычно изображается с большим изяществом, как сын купца хочет жениться на какой–нибудь девушке и какие он встречает препятствия, и кончается все обыкновенно свадьбой. Менандр наплодил очень много комедий, и ни один из последующих комедиографов, вплоть до наших дней, не мог уйти от него. Возьмем ли мы Лопе де Вега, Мольера и т. д., — все сознательно или — бессознательно берут менандровские сюжеты, обыкновенно через посредство подражавших ему латинских комедиографов. Измены жен, столкновение старости с молодостью, слуга, который хитрее своих господ, и т. д. — все это взято было из быта разлагавшейся Греции.
После Аристофана комедия большого стиля размельчилась в простую бытовую пьесу. Вместо общественного здания получились индивидуальные сценки, нечто обывательское. Этот конец великого общественного театра совпал с концом античной общественности Греции. Она тогда созрела, чтобы вступить в новую полосу.
Разложение греческой культуры наступило вследствие распада единства государственной мысли, единства государственного чувства, которое руководящие классы гражданства отдельных греческих государств (в Афинах — широкое, более демократическое, а в Спарте — более аристократическое гражданство) смогли с известными перебоями поддерживать в своих обществах до тех пор, пока возникшие в результате развития меновых отношений новые силы не создали непреодолимые классовые противоречия и индивидуалистический распад. Как я говорил, почти вся греческая литература античного периода выражала собою тенденции к государственному сплочению и единству и достигла на этой основе огромной высоты. В более позднее время и в литературу проникли элементы разложения, индивидуалистического упадка.
В III веке до н. э. в Греции шло уже полное разложение общественности. Тот общественный инстинкт и та общественная мудрость, которую раньше выдвигали греческие правящие классы, как бы потеряли свое громадное социальное значение. На примере греческой трагедии я показал попытки вновь подчинить личное общественному; но это было невозможно, и на примере трагедий Еврипида и комедий Аристофана мы видим уже литературное отражение глубочайшего общественного разложения. Комедии Менандра — это символ деградации великой культуры.
Когда единство погибло, общество оказалось непрочным. Те самые соседи, которых раньше сплоченные греки побеждали, теперь оказались грозными противниками. Но волею судеб разложившаяся Греция не подпала под власть Востока, а под власть по существу не очень сильной и не очень культурной Македонии. На Востоке силы к этому времени, в свою очередь, распались, и благодаря этому сплачивающей силой оказалось феодально–крестьянское Македонское государство. Не в силе македонцев была причина побед Александра Великого, а именно в политической слабости греков и в невозможности для самой Греции выдвинуть объединяющие начала. Города восставали там на города, классы на классы, личность на личность — все превратилось в общественный песок, и великому печальнику и плакальщику о прошлом Греции, Демосфену, сопротивлявшемуся победе македонской монархии, ничего не удалось сделать. Внешняя, грубо монархическая спайка понадобилась Греции, да еще варварская. Мы видим, что Филипп, Александр механически связывали Грецию. И когда македонцы сумели все эти распадающиеся силы в полицейско–государственном порядке подчинить себе и сковать, то в руках македонских царей оказалась огромная сила, — правда, на некоторое только время. Восток к этому времени разложился, Запад и Север (от Македонии) были еще в варварском состоянии; и поскольку разложившаяся тоже и вновь воссозданная чисто внешним, механическим образом Греция оказалась все же сплоченной и все еще весьма культурной — Македония разлилась огромным потоком по всему тогдашнему миру в форме завоеваний Александра Великого.
Мне незачем останавливаться на эпохе Александра Великого и диадохов, то есть приспешников и наследников, которые разодрали между собой его огромную монархию. Эпоха, когда город Александрия в северо–восточной Африке оказался культурным центром наибольшей мощи, была периодом, во всяком случае, глубокого распада общественности. Из философии, литературы, из искусства того времени исчезло творческое общественное начало. Частью живут старым, его пережевывают, им восхищаются, его изучают, а частью создают новое–искусство, более или менее изысканное, но на потребу богатых индивидуалистов. Вместо статуй — статуэтки. Архитектура роскошная, но лишенная прежнего благородства, благородства той эпохи, когда она выражала организованное социальное единство. Поэзия изощренная, в некоторой степени декадентская, изготовленная на вкус смакователя–индивидуалиста. Большая наклонность к жанру, то есть к мелким безынтересным сюжетам, частью устремление либо в натурализм, граничащий с фарсом, либо в нечто грандиозное, импозантное, что при бессилии творчества переходит в большое только по размерам. Все признаки вырождения.
Должно отметить, что это был славный период для точных наук. Ученые, жившие на иждивении повелителей, потомков непосредственных сподвижников Александра, предались изысканиям в области математики, географии, астрономии и т. д., как бы из чистой любознательности, но в значительной мере, конечно, служа росшей в то время морской торговле. Благодаря этому создалась некоторая возможность развития (иногда даже коллективного, в том смысле, что один ученый пользовался результатами, добытыми трудами другого ученого) точных знаний. Но и эта научная работа была оторвана от больших общественных задач и на ней лежала печать ученого–педантства.
Не в силе македонцев, сказал я, а скорее в слабости греков заключалась причина того, что македонцы их победили. Так же точно не в силе Рима таилось его величие, а в рыхлости всего остального тогдашнего мира. Внутри восточного общества не было никакого здорового класса, который смог бы прийти на смену разложившемуся деспотическому, полуфеодальному режиму; Греция разложилась, распалась на враждующие между собой лагери. И мы видим, как итальянские соседи вскоре возвышаются среди этой общей рыхлости до значительной силы и вступают в соревнование со слабым, в сущности, противником — с карфагенской купечески–пиратской державой, а затем, не находя соперников, подчиняют себе все вокруг и организуют действительно нечто целое, превратив только что завоеванные страны в Великую Римскую империю.
Глубокая разница между Римом–завоевателем и между этими завоеванными им землями лежала в основе общественности Рима. Общественность Рима была в высокой степени милитаристична и патриархальна. Нигде в мировой истории мы не видим такого цепкого патриархально–аристократического военного общества, такой основанной на круговой поруке упорядоченной банды хищников, какую мы видим в Риме. Я не могу углубляться в то, чтобы провести параллель между Спартой и Римом, чтобы показать, насколько замкнутой была хищно–военная Спарта по сравнению с Римом. Рим был городом "Жадных колонизаторов, бандитов на суше и на море. Но особая складка римлян, которую кратко можно охарактеризовать как стремление сейчас же закрепить и отлить в прочную, монументальную, неподвижную форму каждое новое достижение, делала чрезвычайно прочными все их предприятия.
Конечно, чрезвычайно интересно проследить работу римских сенаторов, римских патрициев в их постепенном строительстве военно–разбойной мощи, их борьбу с внутренними и; внешними враждебными общественными группами (позднее — классами). Но я останавливаться на этом не могу.
Во всяком случае, Рим был в высокой степени прочен и целостен в эпоху своего расцвета. Римское право, которое до сих пор еще лежит в основе буржуазного гражданского права, является монументальным созданием человеческого гения, отражая, с одной стороны, глубочайший индивидуализм, законченную, до конца доведенную систему частной собственности, и в то же время устанавливая систему подчинения каждого индивидуума государственным законам. И когда владыки Рима, эти помещики–разбойники, военные пайщики общего хищнического предприятия, постепенно давали права плебеям, иностранцам, побежденным в борьбе, которые селились вокруг них, то делали они это с бою; но всякий раз результат этой борьбы узаконялся в необычайно четкой форме. Огромное гражданское правосознание, умение всегда вносить дисциплину военного лагеря во все решительно стороны жизни — все это делало Рим противоположностью разложившемуся Востоку и греческому миру.
Я просил бы вас заметить то, что очень часто упускается из виду при преподавании истории и социологии: правящий класс до тех пор, пока он не разлагается, является до некоторой степени выразителем общих интересов своей страны, не в том смысле, чтобы он старался защищать раба или крестьянина, а в том, что его главная цель — создать мощное объединение сил. Для него военная внешняя мощь, внутренняя складность жизни, повиновение низших высшим является чрезвычайно важной задачей. Поэтому личная алчность римского собственника–сенатора, как она ни была велика, должна была умерять себя по отношению к низам для того, чтобы создать более или менее крепкое общество.
В Афинах стремились создать гармоническую гражданственность; в Риме стремились создать необыкновенно устойчивое правовое единство, которое послужило бы базой к чисто военной, захватнической мощи.
Но впоследствии и эта замечательная римская организация тоже стала приходить в упадок. Этот процесс вы приблизительно знаете. Рим вырос в необъятный город с многочисленным люмпен–пролетариатом, грозным уже своей численностью. В годы главным образом рабского труда, труда невольника, пленного, взятого из покоренных стран, труд вольный совершенно упал, — не только ремесленный, но и крестьянский. Вместо прочного крестьянства, которое было опорой сенаторов, пришлось опираться на иностранные войска. Внутренняя сила сгнила в борьбе классов, постепенно распустилась, потеряла свою прежнюю устойчивость, а в результате этого — переход к цезаризму, к тирании. Гай Юлий Цезарь был типичным тираном.
Тирания, как вы помните, есть диктатура, основанная на использовании острых противоречий между низами и верхами в момент, когда ни у одной из сторон нет сил или достаточной организованности, чтобы подавить врага. Тирания — это захват власти, сопряженный с насилием и развратом. Разнузданность, отвратительные проявления римской императорской власти проистекали отсюда, хотя в этой власти были и положительные черты. Как македонские цари объединили разложившиеся Афины, так и здесь, при помощи железной кирасы легионеров, стремятся удержать в целости начинающий распадаться Рим. Этот процесс идет, однако, все дальше и дальше. Император превращается в неограниченного насильника, который в то же время трепещет перед каждым своим телохранителем. Почти все римские императоры кончали жизнь в каком–нибудь дворцовом перевороте. Знать, непомерно разбогатевшая, живет в постоянном страхе перед конфискацией имущества этим жадным центральным правительством. Все устремляются исключительно на похоть, на угождение своему чреву. Вкус к жизни, полной опасностей, стремление к тому, чтобы быть начеку, идти от завоевания к завоеванию, представлять собою несокрушимую мощь — все эти черты совершенно утратились. И когда римская держава оказалась опять среди растущих опасностей, организованной силы больше не было. Старые державы, древние культуры продолжают дряхлеть. Новые далеко еще не поднялись до того, чтобы противопоставить Риму какую–нибудь организованную силу. Но Рим сам настолько одряхлел, что не мог сдержать все огромное количество подчиненных ему народов и стран. Молодые, малокультурные народы, может быть, только немножко отполированные римской дисциплиной, превращаются в господ своих прежних господ. Начинается распад, а затем и полное падение Рима под ударами его недавних рабов, варварских народов. Здесь начинается переход к Средним векам.
Было бы интересно, может быть даже необходимо, остановиться на римской литературе, своеобразно отразившей описанные мною процессы. К сожалению, нам приходится отказаться от этого.
Скажу лишь, что литература развивалась в Риме туго.
Классический период литературы совпадал со временем императоров, с веком Цезаря и Августа в особенности. Но римская литература, даже в апогее своем, оставалась в сильной зависимости от греческой. Черты подражательности находим мы даже у величайших поэтов Рима — Горация, Вергилия и Овидия.
В своем роде изумительная философская поэма Лукреция «О природе вещей», поэтически выражавшая выдвинутую греками материалистическую философию, относится к самому концу республики и носит на себе черты глубокого пессимизма.
Римская литература несравненно ниже греческой, но она имела огромное значение для последующих веков, в особенности в тот период, когда средневековое человечество из глубины варварства стало развиваться до уровня, сделавшего его способным жить идеями и чувствами античного мира.
Источник
|